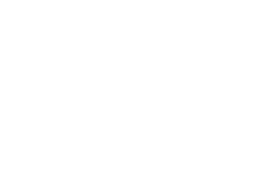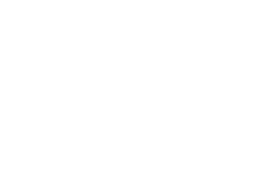|
|
|
Вехи судьбы разведчика: Германия — Афган — Германия... |

|

|
 29 лет назад многим нашим соотечественникам пришлось встречать Новый
год вдали от своих родных и близких: 25 декабря 1979 г. первые части
Советской армии вошли в Афганистан, а спустя два дня подразделения
спецназа штурмовали дворец президента ДРА Хафизуллы Амина. Так началась
афганская война. О ней (и не только) пойдет речь в материале, который
мы предлагаем вниманию читателей «2000». 29 лет назад многим нашим соотечественникам пришлось встречать Новый
год вдали от своих родных и близких: 25 декабря 1979 г. первые части
Советской армии вошли в Афганистан, а спустя два дня подразделения
спецназа штурмовали дворец президента ДРА Хафизуллы Амина. Так началась
афганская война. О ней (и не только) пойдет речь в материале, который
мы предлагаем вниманию читателей «2000».
Геннадий Сергеевич Лобачев — полковник в отставке. С 1961 г. служил в
органах госбезопасности на должностях офицерского оперативного и
руководящего состава. В годы афганской войны руководил командой
«Карпаты-1» отряда спецназначения КГБ «Каскад». С 1992-го по настоящее
время работает в Торгово-промышленной палате начальником управления
Вот так буквально в несколько фраз можно сублимировать основные вехи
его официальной биографии. Но что стоит за этими сухими строками? Об
этом и попытаемся рассказать читателю.
«Вы смахиваете на немца...»
— Геннадий Сергеевич, давайте начнем с традиционных вопросов: где родились, где учились? Как попали в органы госбезопасности?
— Родился и вырос в Луганске, потом учился в Киевском политехническом институте, а после его окончания меня направили в Москву, в так называемую 101-ю школу. Потом, спустя годы (в 1968-м) ее переименовали в Краснознаменный институт КГБ СССР им. Ю. В. Андропова*.
* Ныне — Академия внешней разведки России (институт был переименован с переходом в подчинение службе внешней разведки РФ после ее образования в декабре 1991 г.).
— Расскажите, пожалуйста, хотя бы вкратце об учебе в этом таинственном вузе.
— Попал в «немецкую» группу. «Вы по внешнему виду очень смахиваете на немца, — сказали мне, — будете учить немецкий и специализироваться на немецкой тематике. А английский совершенствуйте». Два года старательно занимался — осваивал язык и, конечно же, получал специальную оперативную подготовку.
Учился успешно. На каком-то этапе понял, что ко мне присматриваются с точки зрения возможной подготовки для работы в качестве нелегала. Но я косвенным образом дал понять, что это не для меня. Легальная разведка — это одно, нелегальная — совсем другое.
Тонкая «линия Н»
— Как сложилась дальше ваша судьба? Знаю, что спустя несколько лет, в 1969-м, вас направили в ГДР. Вы работали там в легальной резидентуре?
— Да — в аппарате уполномоченного КГБ СССР при МГБ ГДР.
— Работали «под крышей»?
— Никакой «крыши» не было.
— Но вы же не представлялись немцам: «Геннадий Лобачев, советский разведчик»?
— Нет, конечно. Герская (дислоцированная в округе Гера ГДР. — Авт.) разведгруппа находилась на территории Советско-германского акционерного общества «Висмут», которое занималось добычей урановой руды. Прикрывался иногда этой «фирмой».
— И что же, все ограничивалось сугубо легальной деятельностью?
— Всем сотрудникам разведгрупп в округах, какими бы вопросами они ни занимались, обязательно давалась так называемая «линия «Н» — нелегальная разведка. Работа по этому направлению предполагает подбор кандидатов для нелегальной разведки и решение вопросов их документирования: ведь каждому нелегалу разрабатывается «легенда» — вымышленная биография, каждый этап которой должен подтверждаться документами. Сложилось так, что как раз по этому направлению я достиг лучших результатов.
— Сколько лет вы проработали в Германии?
— Обычно подобная командировка длится три, максимум четыре года. Я же пробыл там шесть лет.
— У вас, наверное, были серьезные «источники»?
— Было несколько источников из числа сотрудников криминальной полиции, очень сильных оперативных работников. Они сами для себя приобретали вспомогательную агентуру. Самое главное было для нас — сохранить их в тайне от самих немцев. Гэдээровцы очень ревниво относились к малейшим нашим достижениям. Вот если они знают о каком-либо нашем источнике — вроде бы все нормально. Но если не знают... А нам, конечно же, интереснее было иметь свою агентуру, напрямую работающую на нас.
Главная загранкомандировка
— По возвращении из ГДР вы несколько лет работали в 1-м управлении КГБ Украины. Потом была, наверное, самая главная ваша загранкомандировка — вы возглавляли одну из команд отряда спецназначения КГБ в Афганистане...
— С тех прошло 27 лет, но «афганская одиссея» живет в моей памяти. После возвращения из Афганистана долго еще подхватывался среди ночи в смутной тревоге, что не могу найти под подушкой оружие. А снились чаще всего почему-то полеты на вертолете, выполняющем боевые виражи. До сих пор тогдашние будни приходят в сны — теперь, правда, реже.
— В афганских событиях до сих пор остается много белых пятен. В частности, мало кто у нас имеет четкое представление о контексте, в котором произошел ввод советских войск в Афганистан. Помимо сложной внутренней обстановки в стране здесь сыграл подстрекательскую роль и международный фактор, в частности американский...
— Наша разведка время от времени получала информацию о том, что США вот-вот введут свои войска в Афганистан. Присутствие там американцев, как нам разъясняли, крайне нежелательно: это приведет к резкому снижению обороноспособности СССР, так как Штаты смогут расположить межконтинентальные ракеты типа «Першинг» вблизи наших границ, а в результате значительная часть территории Советского Союза, включая космодром Байконур, окажется в поле их досягаемости. Поэтому требовалось (что прямо отвечало нашей тогдашней военной доктрине) «упредить противника».
— Но помимо декларируемых причин были, наверное, и другие, о которых умалчивали?
— Понимаете, не могло же советское руководство открыто заявить, что намерено помешать американцам организовать с помощью Пакистана и Афганистана проникновение исламских фундаменталистов в наши среднеазиатские республики. Эти планы США преследовали далеко идущие цели: дестабилизировать внутриполитическую обстановку в регионе и добиться выхода этих республик (или хотя бы Таджикистана, где, как теперь стало известно, к тому времени были разведаны значительные запасы урановой руды) из состава СССР.
— Теперь о вашем непосредственном участии в афганской эпопее. Известно, что вы руководили командой «Карпаты-1». Это спецназ КГБ.
— Свое название каждая команда в отряде спецназначения «Каскад» получала по главному горному массиву в регионе формирования. Наша создавалась на территории Украины и Молдавии, отсюда и «Карпаты». Были еще «Тибет», «Урал», «Кавказ», «Алтай»... Общее руководство этими подразделениями осуществлялось КГБ СССР.
В Долине черных смерчей
— В середине августа 1980-го команда оказалась в Долине черных смерчей — на высоте около 1700 м над уровнем моря. Высокогорье дало себя знать на следующее же утро во время занятий по физподготовке. При нагрузках казалось, что грудь вот-вот разорвется — настолько был беден кислородом воздух. Со временем организм несколько адаптировался, стало легче.
Со смерчами мы тоже познакомились в первый же день пребывания на афганской земле. Необыкновенно красивое зрелище... Но когда мельчайшая пыль и песок запорошат глаза, забьют дыхание — тут уж не до красот...
— Как восприняли появление «Карпат-1» местные жители и воины советской армии?
— Довольно скоро в окрестностях начали распространяться слухи о прибытии какого-то особенного подразделения. Элегантные бороды и усы (что командованием не запрещалось) утвердили не только местное население, но даже солдат Советской армии во мнении, что мы... кубинцы.
Формированию романтического «ореола» поспособствовал еще и такой случай. Один из наших спецназовцев предупредительной очередью решительно остановил пыливший по дороге грузовик, в кабине которого ехал некий подполковник, продолжая путь вопреки требованию выбрать другой маршрут. При резком торможении нарушитель расквасил нос о лобовое стекло. Таким образом подполковник убедился (а потом, видимо, передал и другим), что эти ребята не шутят.
Среди бойцов Советской армии за нашей командой закрепилось название «андроповский батальон».
Охотники за информацией
— Главной задачей, как я понял, было не столько участие в боевых операциях, сколько сбор и реализация развединформации?
— Сразу же по прибытии в Афганистан мы стали получать ценную развединформацию. Более того, мы ее тут же старались реализовать. К примеру, были оперативно использованы полученные нашими людьми в Фарахе сведения о планируемом совещании крупных руководителей антиправительственных формирований. Его участники прибывали из Ирана и Пакистана для обсуждения планов «отрыва» юго-западной части Афганистана с целью развертывания фронтальной войны. В результате операции, проведенной с применением вертолетов и штурмовой авиации, было уничтожено около 60 главарей моджахедов и их подручных, собравшихся на это мероприятие.
Со временем, когда начались боевые операции против исламистов и появились пленные, объем информации увеличился за счет их детальных опросов. Если кто-то из них соглашался сотрудничать с нами (такое хотя и нечасто, но все же случалось), мы создавали условия для его освобождения: либо инсценировали побег, либо путем «утечки информации» наводили банду на маршруты конвоирования или места содержания пленных, среди которых находился и наш будущий «источник», чтобы их могли «отбить». Эта работа проводилась в условиях строжайшей конспирации, и потому «расшифровок» и провалов практически не было.
— Какие задачи ставились перед людьми, которые соглашались сотрудничать?
— От них ожидали сведений о численном составе группировки, мотивах объединения этих людей (политическая идея или криминал?), обеспеченности вооружением и средствами связи, командном составе и уровне его подготовленности, о характерной тактике действий и применяемых уловках, о наличии иностранных советников и инструкторов, о планах на ближайшее время и на перспективу, о целях и маршрутах передвижения, контактах и связях с другими формированиями и с заграницей. Особенно нас интересовали вопросы, связанные с наличием в бандах пленных и заложников: места и условия их содержания (обращение в свою веру, использование в качестве рабочей силы или для продажи), физическое состояние и поведение пленных, возможность их освобождения.
Все полученные данные тщательно анализировали, чтобы определиться, с кем имеем дело: бывало, что за банду принимали отряд самообороны, созданный местным лидером для борьбы с обычными грабителями. В подобных случаях принималось решение о тактике работы с конкретной группой. Иногда с лидером устанавливался личный контакт и даже складывались доверительные отношения, т. е. достигалось взаимопонимание.
Операция «Бумеранг»
— И все же, Геннадий Сергеевич, иногда вам приходилось проводить и боевые операции, подготовленные на основе развединформации... Одну из спецопераций вашей команды описал маршал Соколов в пособии по тактике боевых действий против бандформирований для высших военных учебных заведений. Она, помнится, называлась «Бумеранг».
— Замысел состоял в том, чтобы обратить против моджахедов применяемую ими же тактику, которая большой оригинальностью не отличалась. Небольшим подразделением они навязывали бой и, имитируя отступление, заманивали противника в ущелье. Затем выход блокировался завалами или массированным огнем с заранее подготовленных позиций — и начиналось методичное уничтожение окруженных. Редко кто выбирался живым из подобной западни: в таких ситуациях душманы, как правило, не брали раненых в плен. Захваченных бойцов почти всегда убивали, часто подвергая перед этим жесточайшим пыткам.
...Все началось с конфиденциальной встречи с неким Саттаром, которого мы считали главарем небольшой, но благодаря своей мобильности практически неуловимой банды. Нельзя сказать, чтобы его люди отличались особой агрессивностью или чересчур беспокоили наше подразделение. Здесь Саттар активности не проявлял, но местные органы власти игнорировал полностью.
В процессе проведения предварительных переговоров с Саттаром (детали их организации пусть останутся оперативной тайной) он объяснил, что возглавляет группу вооруженных земляков, связанных между собой родственными узами. Никаких четких политических взглядов они не придерживаются — объединились и добыли оружие исключительно с целью обеспечить спокойную жизнь жителям нескольких кишлаков. К «шурави»** у них претензий нет, к нашей команде — тем более: о ее существовании он знал уже давно, видел, что мы не каратели, не обижаем местных жителей. Из уважения к нам и поверив нашим гарантиям он и согласился на эту встречу. Состоялась довольно откровенная беседа, из которой мы поняли, что имеем дело с типичным отрядом самообороны.
Желая доказать свою лояльность и готовность к сотрудничеству, Саттар сообщил, что через несколько дней по известному ему маршруту проследует караван в составе около 40 человек — инструкторов и прошедших переподготовку в Пакистане бандитов, часть из которых ранее «засветились» при грабежах его «подшефных» кишлаков.
Мы понимали, что он руководствуется стремлением отомстить и обезвредить неприятеля. Тем не менее этот человек вызывал доверие, а предоставленная им информация, безусловно, заслуживала внимания. К сожалению, у нас не было возможности перепроверить ее, да и на тщательную подготовку операции времени оставалось в обрез. Несмотря на некоторые сомнения, решили пойти на риск. При разработке операции мы применили известную нам тактику противника — затягивание в «мешок» с последующим замыканием кольца окружения. Т. е. собрались бить врага его же оружием.
Оценивая свои силы и средства, пришли к выводу, что их у команды (с учетом численности и уровня подготовки противника) явно недостаточно. Поэтому я обратился к командованию дивизии, которое с готовностью предоставило в наше распоряжение танковый и разведывательный батальоны. Их командирам и личному составу был представлен подробный план проведения операции.
При инструктаже командиров армейских подразделений внимание акцентировалось на необходимости взять в плен как можно больше бандитов, однако достичь этой цели в итоге помешала допущенная нами серьезная ошибка. Мы не учли настроение бойцов разведбата, который за месяц до того попал в западню, устроенную душманами, и потерял практически всех своих командиров и более половины личного состава. Целый месяц разведбат «залечивал раны», в боях не участвовал. Бойцы горели жаждой мести... А мы ничего об этом не знали.
— Как завершилась та операция?
— Можно сказать, успешно. Было взято много разнообразного оружия, боеприпасов, снаряжения, медикаментов, пропагандистской и учебной литературы, документов и даже денег. Но — ни одного пленного. Вся бандгруппа — 34 человека — была полностью уничтожена. Удержать солдат-разведбатовцев от действий под влиянием охватившей их ярости не удалось ни их командирам, ни личному составу наших боевых групп, принимавших участие в операции. Мы потеряли возможность получить интересующую нас информацию, допросив захваченных бандитов. А ведь среди них, что особенно важно, были и особы с европейскими чертами лица — предположительно, иностранные инструкторы или советники. То, что моджахедов поддерживают арабские страны и в их рядах воюют арабы, было доказано неоднократно. Но арабов и афганцев по внешности не различишь. А вот американцы и европейцы — совсем другое дело. Короче, данная операция еще раз продемонстрировала, что в жизни мелочей не бывает.
Вновь Германия — и возвращение на Родину
— После Афганистана в 1990—1991 годах вы были в краткосрочной командировке в Германии...
— Расскажу о том, как отбыл оттуда — «засвеченным». Причиной тому стал целый ряд обстоятельств; в частности, случилось предательство. Когда я потом проанализировал ситуацию, пришел к выводу, что человек, ушедший на Запад, к тому времени уже работал на противоположную сторону. А он обо мне кое-что знал. Таким образом, уезжал я под плотным наружным наблюдением. Но возможности «поймать меня на горячем» я тамошним спецслужбам так и не предоставил.
Вернувшись в Украину, в 1991-м уволился из органов госбезопасности. На следующий год вновь поехал в Германию, но уже как сотрудник Торгово-промышленной палаты. Местная спецслужба, видимо, сочла, что я опять стал работать «под крышей», и приставила ко мне наружное наблюдение; мой гостиничный номер негласно обыскивали (профессионалу все это нетрудно заметить). Но то была краткосрочная командировка, никаких секретных заданий я не выполнял и через пару дней без каких-либо осложнений вернулся домой.
— В Германии у вас, наверное, были знакомые среди сотрудников штази***. Как сложились их судьбы после объединения Германии?
— Приведу один пример. Мой товарищ из штази в период, когда произошло объединение Германии, находился в длительной командировке в Йемене по линии МГБ ГДР. После объединения он оставался там еще в течение года, но его работу оплачивала уже ФРГ. Когда его отозвали, то сказали: ну что, мы же тебя содержали, все нормально, давай работать дальше. Он ответил: «Нет. В своей деятельности ущерба ФРГ я не нанес, но вы как военные люди должны меня понять: я давал клятву верности одному государству, и хотя его уже нет, я не могу дать подобную клятву другому». Он рассказал мне об этом позже, когда его наконец оставили в покое.
— А вы, Геннадий Сергеевич, не работали в СБУ после того, как уволились из КГБ?
— Нет.
— Почему? Ведь многие ваши коллеги по КГБ сделали в СБУ блестящую карьеру.
— Чтобы пойти туда, нужно было бы принимать присягу. А я офицер, и моя офицерская честь, как я ее понимаю, присягать по нескольку раз не позволяет. Бывшим коллегам я не судья — каждый определяет свои жизненные принципы сам. Мы и сейчас иногда встречаемся. Более того, я был одним из инициаторов и учредителей Фонда ветеранов внешней разведки, который работает до сих пор.
Я родился, вырос, учился и работал, состоялся как человек в Украине. Это моя Родина. На референдуме 1991 г. искренне проголосовал за ее независимость — и об этом не жалею. Хотя далеко не все мне нравится, точнее — многое не по душе. Продолжаю работать в надежде, что этот труд хоть в какой-то мере поспособствует превращению моей Украины в нормальное демократическое государство, в котором счастливо будет жить весь народ, а не только те, кто называет себя почему-то «элитой нации».
*** Сокращенное название министерства госбезопасности ГДР (Ministerium fur Staatssicherheit — Stasi).
|
|
|
|